Николай Карташов
ДЕТСКИЕ ГОДЫ (Из книги «Станкевич».Глава первая)
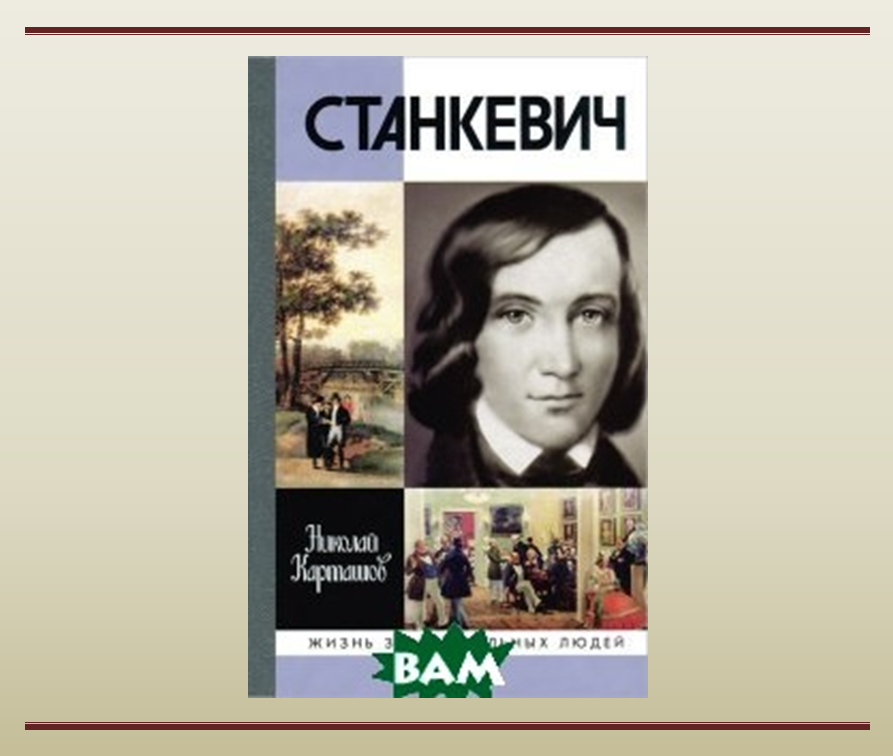
В утренней осенней тишине громко ударил колокол. Не тревожно, а празднично, напевно. Его раскатистый малиновый перезвон покатился с высокой меловой горы через слегка озябшие густые липовые аллеи, фруктовый сад и луг – прямо к реке. Внизу, у деревянного моста, он настиг телегу с несколькими крестьянами, которые, как по команде, повернули головы к возвышающейся на горе небольшой деревянной церквушке и стали дружно креститься.
– У пана нашего, видать, праздник, – громко сказал один из мужиков. – Чуете, колокол, як пивень, заливается...
Действительно, у пана, как называли отставного поручика Владимира Ивановича Станкевича здешние крестьяне-малороссы, в то сентябрьское утро 28 сентября 1813 года был особый праздник. Ночью его жена Катя, в которой он души не чаял и которую горячо любил, родила первенца. Владимир Иванович очень надеялся, что супруга подарит ему именно наследника. И надежда эта сбылась.
Молодой хозяин пребывал в прекрасном настроении.
– Хвала тебе, Господи! Хвала тебе, Катя! Хвала за сына! – радостно восклицал он, постоянно повторяя слово «хвала», что в переводе с сербского означало «спасибо».
Добрые и светлые чувства переполняли его грудь, вырывались наружу. C кубком шампанского он бодро расхаживал по двору, напевал песни, необычно много шутил и любезничал с прислугой.
Да иначе и быть не могло у человека, который стал отцом. На радостях Станкевич сделал на обложке старославянского рукописного псалтыря «Минея» памятную запись: «Славу бога моего родился сын... 1813 года сентября 27, в ночь на 28». Первенца нарекли Николаем.
Обряд крещения был совершен наутро 28 сентября. Крестили младенца в купели в Соборно-Троицкой церкви города Острогожска Воронежской губернии, о чем местный священник Михаил Подзорский, творивший молитвы во здравие сына Николая, впоследствии составил соответствующий документ: «Свидетельство… дано сие Острогожского и Бирюченского уездов поручика Владимира Иванова сына Станкевича сыну Николаю в том, что он Николай действительно от помянутого поручика Владимира Иванова сына Станкевича и законной его жены Екатерины, дочери коллежского асессора Фон-Крамера от законного брака прошлого 1813-го года сентября 27 дня и того же месяца 28-го числа мною крещен; восприемниками были Острогожского уезда помещик поручик Николай Иванов сын Станкевичи помещица дворянка губернская секретарша Елизавета Дмитриевна дочь Синельникова, о чем и в метрике 1813 года под № 153 записано. Во удостоверении чего, свидетельствуя, подписуюсь…».
Месяц спустя в доме Станкевичей состоялся родильный стол. Приехали из окрестных мест гости – родственники и соседи-помещики из близлежащих имений: Рахмины, Томилины, Сафоновы… Было шумно и весело. Все сидели за большим столом, заставленным обилием напитков, блюд из дичи, баранины, рыбы, грибов и прочей домашней снеди. Гости по очереди произносили речи, дарили подарки, поднимали бокалы с вином за родителей и новорожденного.
В перерыве между застольем счастливый отец пригласил гостей в манеж посмотреть своих лошадей. Их по одиночке стали выводить из конюшни, они дичились, становились на дыбы. Тут же гостям подавали бокалы с шампанским. Один из бокалов хозяин влил прямо в пасть красавцу жеребцу, только что взвивавшемуся перед ним на дыбы. Жеребец, похоже, с удовольствием выпил вино.
– За первенца! – воскликнул Станкевич, поднимая бокал.
– За первенца! – радостно и дружно прокричали хмельные гости.
Детство Николеньки Станкевича пришлось на те ранние годы ХIХ века, о которых Лев Толстой написал: «Времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или в карете, брали с собой целую кухнюдомашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, – когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были молоды не одним отсутствием морщин иседых волос, а стрелялись за женщин и с другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света – наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных...».
Рос Николенька в имении отца – небольшом селе Удеревке, что соседствовала с уездным городком Острогожском и слободой Алексеевкой Воронежской губернии. И хотя местом его рождения считается Острогожск, настоящей «колыбелью» для всей последующей жизни Станкевича стала именно Удеревка. Местность тут была замечательная. Впрочем, ее трогательная и волнительная красота сохранилась и по сей день.
Дом Станкевичей стоял на высокой меловой горе, с которой открывался прекрасный вид на речку с теплым названием Тихая Сосна. На одном из ее крутых изгибов, где течение было быстрое, стояла водяная мельница. На мельнице всегда было людно, особенно осенью. Туда приезжали работники из ближайшей округи, чтобы смолоть жито, пшеницу или ободрать ячмень на крупу.
Под горой, вдоль реки, волнистой лентой тянулась небольшая малороссийская деревенька, тонущая в вишневых и грушевых садах, с аккуратно выбеленными хатами под камышовыми и соломенными крышами. В обеденные и вечерние часы из-за плетней, обросших шиповником и крапивой, тянулись шлейфами ароматные запахи кулеша, борща, сваренных вареников, галушек со свиным салом…
В деревеньке в ту пору еще можно было встретить смуглых хлопцев с подбритыми висками и длинными усами, в высоких бараньих шапках и с люльками в зубах. Женский пол тоже сохранял традиции предков. Девушки были одеты в пестрые плахты. Но особый колорит придавала живая и певучая малороссийская речь, которая доносилась из-за плетней селян: «Так як же тому буты, щобнашаКатрябулатобижинкою? Чи вона ж тоби пара?» Или: «Маты, а ты бачила молодого паныча? Вин такий гарный!»
А еще из-за плетней звучали песни, которые часто слышал наш герой:
Сватьбайде,
Пастух в дудку гуде;
Сваха – черепаха,
Светилкою жаба.
Вошь тому рада,
Щойде гнида
За Демида.
Одна из младших сестер Николеньки – Александра, впоследствии вышедшая замуж за сына великого русского актера М. С. Щепкина, в своей книге «Воспоминания» писала: «Близ деревни отца, Удеревки, было в окрестности много малороссийских сел. Встречаясь с малороссами, мы в детстве спрашивали: отчего они так странно говорят?
– Потому что они хахлы, не русские, так они и говорят по-своему, – объясняли нянюшки, и мы довольствовались их кратким ответом».
Рядом с хатами, ближе к реке, находились огороды, обсаженные вербами. В летнюю пору они были похожи на ярко вытканные восточные ковры. Из грядок выглядывали красные цветы мака, поблескивали спелыми боками рябые гарбузы (тыквы), полосатые кавуны (арбузы) и золотистые дыни. Словно солдаты в парадных шеренгах, стояли длинные, как на подбор, подсолнухи, задрав к солнцу свои большие желтые шапки.
Дальше, за речкой, зеленели сочные заливные лугас живописно разбросанными по ним купами верб, ольхи и лозы, за кущами – простиралась необозримая степь, убегающая ковыльными волнами далеко за горизонт. По этому колосящемуся серебристому морю медленно плыли гурты быков и отары овец, издалека напоминая чем-то огромные плоты. А ночами степь часто светилась огнями, мелькающими, как звездочки. Это вечно кочующие чумаки, остановившись на ночлег, жгли костры, готовя себе ужин. Под глубоким небом слышались их дико-унылые песни, временами сипло напевала скрипка…
О детских годах Станкевича известно, к сожалению, не так много. И, тем не менее, сохранившиеся в государственном архиве Воронежской области документы, исторические «раскопки» местных краеведов А. И. Гайворонского, В. Ф. Бахмута, А. Н. Кряженкова, О. Г. Ласунского, других исследователей, письма самого Станкевича, а также воспоминания его младшей сестры А. В. Станкевич, брата А. В. Станкевича позволяют узнать о будущем поэте и философе не так уж и мало.
Николенька был любимцем не только родителей, братьев и сестер, но и всей дворовой прислуги. Это был мальчик веселый, здоровый, общительный и необычно резвый. Приглядывали за ним и занимались его воспитанием не завозные гувернеры, как было принято в дворянских семьях, а няня Зиновьюшка, дворовый дядька Иван и, безусловно, родители. С крестьянскими ребятишками он играл в индейцев и войну, ловил в заводях и на быстрине Тихой Сосны окуней, головлей, щук и сомов. Любил Николенька, как и всякий ребенок, попроказничать.
Однажды, стоя на балконе удеревского дома, он увидел внизу отца, который задушевно беседовал на крыльце с почтенным купцом, обладавшим лысиной необыкновенного размера. Лысина эта тут же привлекла внимание Николеньки, и он никак не мог удержаться от соблазна плюнуть на нее сверху, что вскоре и исполнил к ужасу купца и к огромному удивлению отца.
В другой раз резвость непоседливого паныча обернулась трагедией – сгорел родительский дом, а по некоторым сведениям, даже вся деревня. Пожар случился в жаркий июльский день, когда Николенька, стреляя из детского ружья, попал в соломенную крышу дома. Попавшая искра тлела незаметно и, вспыхнув, быстро охватила пламенем весь дом, который в одночасье сгорел дотла. Целый день не могли отыскать мальчика: он убежал в соседнюю рощу и собирался там остаться жить, как дикий человек.
Уже будучи девятнадцатилетним юношей, Станкевич вспоминал: «19 июля 1832 года, село Удеревка. Знаменитое число! Сегодня ровно одиннадцать лет, как я сжег деревню...».
На месте сгоревшего дома отец мальчика вскоре построил новый, по составленному им самим проекту – «очень поместительный, с широкими балконами», двухэтажный, с мезонином и под железной крышей. Дом был деревянный, в стиле провинциального ампира. Он был оштукатурен и выкрашен белой краской. Перед входом в дом лежали три старинные бронзовые пушки, привезенные в подарок отцу Николеньки кем-то из его полковых товарищей из заграничного боевого похода. Внутри дома имелись гостиная, столовая, бильярдная, детские, спальни – всего девять комнат. У хозяина дома был большой кабинет с подобающей обстановкой – письменным столом, креслами, диваном, книжным шкафом. Стены украшали картины, написанные художником из домашней прислуги. Когда приезжали гости, старший Станкевич с гордостью подчеркивал:
– Дом я выстроил сам, без архитектора!
В длинные дождливые осенние и морозные зимние вечера в просторном доме Станкевичей собиралось много детворы: Николенька с младшими братьями и сестрами, а также дворовые ребятишки. Для них это были незабываемые часы. Дружно усевшись на полу, на ковре, они, затаив дыхание, слушали сказки няни Зиновьюшки. Сказки она рассказывала очень осмысленно, изменяя голос, сообразно с характером волка, лисицы или петуха.
Укладывая потом Николеньку спать, нянюшка обычно уговаривала его уснуть поскорее. Но тому спать не хотелось. Тогда Зиновьюшка говорила, что если он не будет спать, его возьметХо,который лежит под кроватью. Кто такой былХо, юный Станкевич не знал, но быстро прятался под одеяло и засыпал.
Делала это няня в шутливой форме, не нагоняя никакого страха на паныча. Вообще эта добрая женщина, наделенная от природы талантом педагога и неистощимой рассказчицы, была душой Николенькиной компании. Няня сумела передать своему воспитаннику всю любовь и нежность, развить пытливый ум и привить любовь к своей земле. Зиновьюшка была малороссиянкой, знала многопесен своего народа. Пела она негромко, вполголоса и как-то по-особенному грустно-нежно:
Ойзийшовмисяц над горою,
Та й всю долину освитив...
Нередко отец, а чаще дядя Николеньки – Николай Иванович - вызывал в дом старого казака, который служил в их имении. Казак приходил со своей бандурой, садился на стул в центре зала и пел, как и Зиновьюшка, малороссийские песни. Взрослые располагались в креслах, детвора – на полу. Все слушали этот самобытный концерт. Казак пел выразительно и бесхитростно. Особенно всем нравились песни комического характера, к примеру, такая: «Как посеял казак гречу, – жинкакаже: мак! – Нехай так, нехай так, нехай греча буде мак!» Так шло до конца песни, а жинка так и не уступила казаку.
Мальчику полюбились эти песни – душевные, светлые, веселые. Большинство он заучил наизусть, часто их пел, любил цитировать в своих письмах.
Николенька рано выучился читать. Чтение стало его первой страстью с самых ранних дней детства. Сняв книгу с полки домашней библиотеки, он, бывало, запоем прочитывал ее, стоя на коленях перед шкафом. Книги были разные – это сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове Королевиче, стихи Державина, Озерова, Хераскова. Интересовала его и приключенческая литература, в которой описывались захватывающие детскую душу путешествия, к примеру, путешествие Кука вокруг света.
Кроме того, по совету старших он читал книги религиозного содержания, в частности, Патерик. Однажды, начитавшись Патерика, наш герой даже намеревался «уйти потихоньку из дому и пойти в монахи». Уже тогда искренняя вера в Бога вошла в его сердце. Он часто посещал Покровскую церковь, которая находилась прямо в усадьбе и являлась домовой церковью их семьи. Вместе с родителями, братьями и сестрами, дворовыми людьми Николенька молился, исповедовался, причащался…
В религии он находил утешение, о чем еще будет сказано в повествовании. Церковное пение, зажженные свечи, молящиеся прихожане, торжественность богослужения, православные обряды – от всего этого он получал радость и тепло для своей души.
Увлечение книгами поддерживала в сыне мать Екатерина Иосифовна – дочь уездного доктора, рано оставшаяся сиротой. Известно также, что она была хороша собой, воспитанной, благопристойной и набожной женщиной. Добрая и ласковая, Екатерина Иосифовна нежно любила своих детей. А их в семье Станкевичей, включая Николеньку, было восемь – сыновья Николай, Иосиф, Иван и Александр, дочери Надежда, Любовь, Мария и Александра. Родились они позже нашего героя. Но различие в возрасте было небольшим, поскольку на свет они появлялись чуть ли не каждый год.
Главная сила Екатерины Иосифовны, пожалуй, заключалась в открытом сердце и мягком характере. Но, к сожалению, еще с молодых лет она страдала хроническим недугом и уже в зрелом возрасте очень редко выходила из своей комнаты.
Станкевич, став взрослым, в каждый свой приезд в Удеревкустарался как можно подольше побыть рядом с милой маменькой, как ее всегда называл. Он заходил к ней в комнату, осторожно садился около дивана, разговаривал с ней, ободрял ее – и она веселела. С юмором она рассказывала о годах своей молодости, знакомстве с отцом. Ее будущий муж тогда находился на военной службе и носил привязную косу – так того требовали армейские порядки, установленные императором Павлом I. Коса и стала причиной знакомства молодых людей. Играя в горелки, девушка, стараясь поймать офицера, схватила его за косу, и, к удивлению, коса осталась в ее руке. «Вот какая была я шаловливая!» – вспоминала матушка этот курьезный эпизод, положивший начало их любви.
Николай всегда отзывался о матери с трогательным чувством. От нее он унаследовал лучшие черты характера – доброту, открытость, незлобивость, самопожертвование, которые впоследствии привлекали к нему друзей и близких на протяжении всей жизни.
Но, безусловно, наибольшее влияние на Николеньку оказал его отец Владимир Иванович. О нем следует рассказать более подробно. Старший Станкевич был высокого роста, смуглый, с прямым носом с небольшой горбинкой, черными волосами и живыми карими глазами.
В здешних местах Владимир Иванович являлся заметной фигурой. Он принадлежал к числу богатых или, как тогда говорили, «великодушных» помещиков. За его плечами была служба в армии, а именно в прославленном Ахтырском гусарском полку. Ему довелось участвовать в 1805–1807 годах в русско-французской кампании, а также в походе в Пруссию.
Из-за болезни он, в чине поручика, вышел в отставку и занялся хозяйственной деятельностью. Не раз служил по дворянским выборам, был исправником, уездным предводителем дворянства. Его отличали прямота и честность характера, природная деликатность. Хитрости и высокомерия он не выносил, со всеми обходился ровно и уважительно, как с помещиками, так и с крестьянами.
В его обращении с людьми не было ни малейшей чопорности; он говорил просто и шутливо с людьми всех сословий. «Часто, входя в зал, – вспоминала Александра, его дочь и сестра Николая Станкевича, – я видела сидевших с ним (отцом. – Н. К.) посетителей по делам, остриженных в кружок с пробором и в длинных чуйках. Я успевала только раскланяться. “Пойди, вели дать сюда чаю!” – говорил мне отец, и я спешила исполнить его поручение. Людей нечестных, мелочных наживателей и взяточников на службе отец не принимал или принимал очень сухо и спешил отплатиться от них. “Кляузники”, – говорил он, иногда представляя их манеру говорить или кланяться».
По свидетельству Александры, среди помещиков – соседей их семейства встречались люди бессердечные и жестокие. К примеру, за плохо вытертую пыль с комода или не так поданную чашку хозяину горничных отправляли на тяжелые работы. А за сорванный кем-то цветок на клумбе пороли всех садовников. «Прогнать сквозь строй», «сослать», «обрить под красную шапку» – для иных помещиков это были не просто угрозы; подобные фразы являлись нормой бытия в отношении своих крестьян.
Так, неподалеку от имения Станкевичей находилась деревенька, о владелице которой ходили страшные рассказы. Высокая, довольно полная, с грубым лицом и мужскими ухватками, здешняя помещица буквально наводила ужас на подвластных ей крестьян. Она собственноручно колотила скалкой горничных, одна из которых с бритой головой как-то несколько дней ходила с рогаткой вокруг шеи. Эта феодальная дама любила также собирать гостей, особенно офицеров из квартировавшего поблизости полка. В народе говорили, что она охотно угощала гостей не только сытными обедами и наливками, но и ублажала их своими женскими прелестями. В конце концов, за свою жестокость помещицу осудили и сослали в Сибирь.
Владимира Ивановича подобные вещи возмущали. Он с отвращением воспринимал тех, кто бесчеловечно относился к людям, чья жестокость сопровождалась развратом. У него были «другие взгляды и понятия, более справедливые, чем нравы окружающих помещиков».
О сердечном отношении помещика Станкевича к людям и, в частности, к крепостным крестьянам, красноречиво говорит такой факт. Богатый помещик из соседнего уезда решил продать оркестр – шесть музыкантов вместе с их семьями. Житье-бытье у них там было никудышное. Выкупил музыкантов Станкевич. Можно себе представить, каково им было менять одного хозяина на другого, совершенно незнакомого.
К счастью, им не пришлось ни о чем жалеть. Новый хозяин очень сочувственно отнесся к их положению. Семьи музыкантов были расселены по отдельным и чистым хатам, специально предназначенным для служивших в имении людей. Каждому музыканту была назначена помесячная денежная плата, а также определена провизия.
Такую заботу о своих работниках отец Станкевича проявлял постоянно. Это было чертой его характера. И чтобы ни случалось – свадьба или похороны, новоселье или болезнь – он никогда не оставался безучастным к радостям и бедам людей, всегда старался им помочь. В то время из-за погодных условий нередко случались неурожаи, из-за чего люди просто оставались без куска хлеба. В один из таких неурожайных годов, когда хлеб стоил очень дорого, Владимир Иванович распорядился отпускать зерно и муку по низким ценам. Кроме того, наиболее бедным крестьянам хлеб был выдан бесплатно.
Добавим еще несколько штрихов к портрету Владимира Ивановича. По словам Анненкова, «отец Станкевича был высокого практического ума, здравого смысла и благородных правил». Он рачительно вел хозяйство, следил за техническими новинками в России и за границей, применял эти новшества у себя в имении. Когда его сын вырос и находился на учебе и лечении за границей, то он, что называется, нагружал его конкретными поручениями и вопросами относительно цен на хлеб, постановки дела на сахарных заводах, просьбами выслать брошюры по сельскому хозяйству. Иными словами, это был помещик новой формации, который, выражаясь современным языком, сумел организовать успешный бизнес.
«Надо заметить, – вспоминала дочь Александра, – что отец наш, легко приобретая деньги, не имел к ним страсти и не приобретал их только для себя; он любил доставить выгоды своим друзьям, и знакомым, и служившим у него по делам. Он считал справедливым уступать и другим, и поднять семью, вывести из стеснения, – это доставляло ему большое удовлетворение».
Из документов, хранящихся в государственном архиве Воронежской области, известно, что в начале 1820-х годов семье Станкевичей принадлежало более 300 крестьян в селах Удеревке, Муховке, Погибелке, хуторе Чесношном, деревне Матренке, два винокуренных завода, конный и салотопенный заводы, мельница, манеж, конюшни, овчарни… В 1821 году отец Станкевича и его брат Николай Иванович (хозяйство они вели вместе. – Н. К.) выкупили у титулярного советника П. И. Гарденина 68 крестьян в селе Пирогово и основали новую деревеньку, названную ими Зара. Столь непонятное для здешних мест название – Зара, а не Заря – было, наоборот, очень родным и близким для братьев: в далеком сербском местечке Зара родился их отец Иван Семенович Станкевич. Непосредственно в самой Удеревке, по описанию 1829 года, семье Станкевичей принадлежало 312 десятин земли и 45 десятин леса, фруктовый сад на 5 десятинах.
Большое хозяйство давало и солидную отдачу. Станкевич-старший поставлял муку, крупы, вино, сало, другой провиант Войску Донскому, Черноморскому флоту. Породистых лошадей, а конкретно, орловской породы – конногвардейским и уланским полкам, расквартированным в уездах Воронежской губернии.
В годину суровых испытаний, когда полчища Наполеона вторглись в Россию, Владимир Иванович участвовал в организации воронежского народного ополчения и занимался снабжением армии продовольствием. В частности, он обеспечивал провиантом 3-й и 4-й Воронежские егерские полки, которые принимали участие в Тарутинском сражении, других военных операциях. За труды в деле защиты и спасения Отечества был награжден бронзовой медалью «В память Отечественной войны 1812 года» на владимирской ленте, о чем написано в книге «Воронежское дворянство в 1812 году».
В последующем отец Станкевича еще не раз удостаивался наград и поощрений. Одну из благодарностей ему объявил воронежский губернатор за расследование дела об ограблении помещицы Костомаровой, матери известного впоследствии российского историка Н. И. Костомарова.
Дело было так. Помещица уехала в Воронеж, а ночью в ее дом проникли грабители. Они связали сторожа, покалечили нескольких дворовых людей, при этом жгли их свечками, пытая, есть ли у барыни деньги и где она их хранит. Потом преступники сорвали замки в комодах и шкафах и унесли все ценные вещи. Станкевич-старший, являясь в ту пору исправником Острогожского уездного суда, сумел по горячим следам найти воров. Виновником разбоя оказался помещик соседнего Валуйского уезда, отставной прапорщик Заварыкин, а соучастниками преступления стали местные крестьяне. Виновных вскоре осудили и сослали на каторгу в Сибирь.
Имелось у Станкевича поощрение и от самого государя. Когда в 1834 году в Туле произошел сильный пожар, в результате которого выгорел почти весь город, Владимир Иванович пожертвовал погорельцам около 100 тысяч рублей. Деньги по тем временам, надо заметить, большие, сродни нынешним миллионам. За жертвенное служение он получил «выражение удовлетворения» от Николая I.
Безусловно, такой человек, как Владимир Иванович, являл собой пример для других людей, а тем более для своего первенца. И хотя отец Станкевича редко бывал дома – торговые дела требовали от него постоянных разъездов – он много внимания уделял семье, воспитанию любимого сына.
Его власть, как родителя, чувствовалась в доме не как гнет, а только как ограничение воли, еще необузданной размышлением, и почти всегда как ограничение разумное и снисходительное. Если взять эпоху, в которой проходило детство Станкевича, то можно понять характер и достоинство человека, так понимавшего в то время свои обязанности семьянина. Поэтому и молодой Станкевич рос честно, если можно так выразиться, – это обыкновенное следствие честного обхождения с детьми. Мелких пороков, скрытности, притворства, лжи и лицемерия он никогда не знал, благодаря своему воспитанию.
Так что от отца Николенька унаследовал не только внешнее сходство, но и ум, усердие, честность, благородство и красоту души. От него он впервые узнал и о своей родословной, откуда и когда появились Станкевичи в этом ковыльно-солнечном крае.
С огромным интересом слушал любознательный Николенька рассказы отца о своем деде Иване, основателе рода Станкевичей в России. Дед был выходцем из далекой, но в то же время такой близкой для России по славянским корням и православной вере Сербии. «Где кто родится, там и пригодится”, – гласит пословица. Но дед Николеньки пригодился в России, которая стала для него второй родиной. И служил он ей верой и правдой, по совести, как и подобает служить родному Отечеству.
В России род Станкевичей отнюдь не уходил своими корнями в седую древность. Он начал отсчет с ХVIII века. Именно в то время по призыву Петра Великого немало выходцев из Сербии, Боснии, Черногории, Далмации, Словении изъявили желание послужить России «в воинских делах против врагов христианского имени и святого креста».
Были и другие причины. После австро-турецкой войны часть территории Сербии стала австрийской провинцией, в результате чего сербы начали подвергаться не меньшим гонениям, чем при турецкой оккупации. При новом режиме коренным жителям запрещалось отмечать день святого Саввы, другие православные праздники, петь родные песни, играть на гуслях и носить национальную одежду. Сербы начали покидать обжитые места, поток беженцев хлынул и в сторону братской России.
К этому же периоду относится и основание первых сербских военных поселений по реке Северский Донец, что протекает по нынешним южным приграничным областям России и Украины. Поселения эти получили название «Новая Сербия». А среди тех первых сербов, кто тогда встал в строй и присягнул новой родине, были Милорадович, Княжевич, Божич, Стоянович, Виткович, Наталич, Депрерадович, Попович-Текелли, Милошевич, Маркович, Зарич, Мирович… Кстати, в России эти фамилии достаточно известны и по сей день.
Всего же, как подсчитали современные историки, в Россию в ХVIII веке прибыло почти 10 тысяч сербов. Многие из них имели военное образование и были хорошими офицерами. В таком качестве их присутствие способствовало повышению боеспособности русской армии. Уцелев в боях и походах, они потом пустили корни в России, и уже их сыновья и внуки, родившись здесь, умножили дела своих дедов и отцов как на военном, так и на иных государственных поприщах.
К числу благородных единоверцев, пришедших на службу Российской империи, принадлежал и Иван Семенович Станкевич. Выходцем он был из местечка Зары, что на Балканах. Происхождение имел шляхетское, то есть знатное. Существует даже версия, что семья Станкевичей состояла в родстве с королем Сербии Стефаном Душаном. Но это лишь версия.
За плечами Ивана Семеновича была учеба в университете в Италии, служба в сербской армии. Это был образованный и храбрый офицер. Как принято говорить, настоящая военная косточка. После принятия «вечного подданства в России» его зачислили в Острогожский гусарский полк, который квартировался в казачьем городке Острогожске Воронежской губернии.
Армейская служба прапорщика Станкевича совпала с многочисленными и затяжными, как надоедливые осенние дожди, военными кампаниями, которые вела Россия с Пруссией, Польшей, Турцией. Молодой гусар всегда находился в передовых порядках. Именно там, где вздымались прошитые картечью и пропахшие пороховым дымом боевые знамена полководцев Румянцева, Потемкина, Суворова… Словно ему и были посвящены эти вдохновенные пушкинские строки:
О громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
Станкевич участвовал в нескольких заграничных походах-сражениях в 1760–1767 годах в Пруссии, в 1769 году в Польше и Турции. Особенно он отличился во взятии Берлина, где проявил себя храбрым офицером. «Состоя в полку, – сказано в аттестате на него, – вел себя добропорядочно, так, как честному офицеру надлежит, и был во всех случившихся в прошедшую кампанию с неприятелем сражениях с Острогожским гусарским полком». К сожалению, из-за ранений и контузий Станкевич, ставший к тому времени капитаном, не мог уже дальше продолжать службу и поэтому вышел в отставку. Получив ее, он занялся сугубо мирными делами на земле, которая чем-то напоминала ему далекую родину.
В 1772 году деда Николеньки назначили земским комиссаром в Меловатке, что находилась в нескольких верстах от Острогожска. Должность земского комиссара считалась почетной и прибыльной. В распоряжении Станкевича находились значительные средства и большие права. По сути, он представлял в одном лице три должности – судьи, казначея и полицейского. Однако основной обязанностью чиновника такого ранга были сбор податей и распоряжение землей.
Конечно, на такой должности разбогатеть и обзавестись землей не представляло большого труда. Но, как пишет в своих «Воспоминаниях» его внучка Александра, меловатский комиссар не воспользовался такой возможностью. «По службе, – пишет она, – деду нашему поручалось наделять новых поселенцев Острогожского уезда казенными землями в степях; ему поручалось также и продавать эти земли; причем он отличался честностью убеждений и не старался приобрести для себя ни одной десятины казенных земель. Помню, что, рассказывая о деде, отец наш вспоминал об этом и к памяти его относился с большим уважением».
Поступали в Меловатку и не совсем обычные распоряжения. О выполнении одного из таких указаний написали известные белгородские краеведы В. Ф. Бахмут и А. Н. Кряженков в книге «Философ с душою поэта», изданнойв 2003 году в Воронеже.
Прочитаем их рассказ: «В 1773 году комиссару вменялось в обязанность повсеместно распространить “земляное яблоко”, то есть картофель. Иван Семенович повелел раздать клубни местным жителям для возделывания новой культуры на своих участках. Понятно, что отношение “казенных войсковых обывателей” к заграничной гостье было более чем прохладное, и первое время ничего толкового из этой затеи не получилось. Тогда-то и сочинили в канцелярии комиссарства любопытный документ. Под диктовку И. С. Станкевича писарь вывел: “ ‘земляные яблоки’ по посажении на полях и в огородах либо от бывшей весной стужи или по нынешнему сухменному лету от великих жаров без остатку семенами пропали”. А затем добавил: “Не повелено ли будет их (посадки картофеля. – Н. К.) отменить?” На это Острогожск прислал вновь клубни и строго предписал за посадками прилежное иметь смотрение. Не думал тогда Иван Семенович, что “земляное яблоко” станет ценнейшей продовольственной культурой…».
Находясь на гражданском поприще, дед Станкевича немало сделал для Острогожского края. Особо он был отмечен «за пресечение морового поветрия смертоносной язвы». В рапорте провинциальной канцелярии подчеркивалось его «особое усердие, радение и попечение, яко прямого сына Отечества». В 1786 году указом Воронежского наместнического правления «за беспорочную службу» Станкевич получил гражданский чин коллежского асессора. А спустя два года, в 1789 году, он единогласно был избран острогожскими дворянами своим предводителем.
Должность предводителя дворянства считалась почетной и уважаемой. Однако никакого жалованья предводитель не получал, хотя обязанностей у него хватало с избытком. Сбор и распределение земских повинностей и снабжение населения продовольствием; организация депутатского собрания и рекрутских наборов; развитие медицинского обеспечения и народного образования… Но с этими и другими обязанностями Станкевич успешно справлялся.
В воронежском привольном краю Иван Семенович Станкевич обрел свое семейное счастье. Он взял себе в жены дочь сотника Острогожского казачьего полка Дмитрия Синельникова – Марию. Супружество оказалось удачным. Мария Дмитриевна подарила своему мужу шесть сыновей и дочь. Самым младшим среди них был Владимир – будущий отец Николеньки.
Дед также стоял у истоков создания герба семьи Станкевичей. Герб представлял собой щит. На нем, разделенном на три части, вверху были изображены полумесяц и бычья голова, внизу – идущий лев. Щит был также увенчан рыцарским шлемом, короною с пышными страусиными перьями и декоративными листьями. Вся эта геральдическая символика свидетельствовала о следующем: лев – о храбрости и благородстве носителей герба, бычья голова – об источнике богатства степного края, а нарождающийся месяц – о молодости дворянского рода.
Многие рассказы отца о деде крепко запали в сердце любознательного и пытливого мальчика. Впоследствии внук не раз об этом вспоминал и всегда очень гордился своим сербско-русским происхождением.
Между тем пора вольного и безмятежного детства Николеньки подходила к концу. Не к окончательному, конечно. Но уже наступал тот период, когда серьезно надо было заниматься учебой. Владимир Иванович, став к тому времени одним из самых богатых помещиков губернии, мог, безусловно, пригласить для обучения сына учителей на дом. Однако этого не сделал, поскольку хотел, чтобы Николенька с младых лет привыкал к самостоятельности. Чрезмерная родительская опека, окружение учителей и гувернанток, по его разумению, могли только избаловать сына.
Да к тому же старший Станкевич не слишком доверял домашним учителям, особенно из числа иностранцев. Хотя на последних в России тогда была мода. Но здесь, вдали от столиц, среди иностранцев трудно было найти грамотного наставника. Француз-гувернер и француз-учитель редко серьезно относились к своим педагогическим обязанностям. В глубинке домашними учителями являлись главным образом мелкие жулики и авантюристы, актеры, парикмахеры, беглые солдаты и просто люди непонятных занятий. Поэтому, когда Николеньке исполнилось девять лет, отец определил его в Острогожское уездное училище, находившееся в двух десятках верст от Удеревки. Свои учителя были как-то роднее и ближе, больше было к ним и доверия.
Начиналась новая страница в жизни юного Станкевича. Как пишет Анненков, он «без всякого изумления очутился между детьми всех сословий, начиная с бедного чиновничьего до мещанского и цехового: он и прежде в деревне, по системе, заведенной в доме, был только сверстником всех других мальчиков и весьма часто их товарищем. Пребывание в уездном училище не осталось без последствий: там привык он к общительности, отличавшей его позднее, и к понятию о достоинстве и самостоятельности каждого человека».
ТАМ, ГДЕ ВОЛНЫ ОСТРОГОЩИ… (Из книги «Крамской». Глава первая)

ТАМ, ГДЕ ВОЛНЫ ОСТРОГОЩИ…
(Из книги «Крамской». Глава первая)
Уездный городок Острогожск, в прошлом пограничный город-крепость Белгородской засечной черты, находился далеко от столиц. Как, впрочем, и не близко от губернского Воронежа. В тридцатых годах ХIХ века он мало чем отличался от тогдашних южных российских городов. Такие же белые хаты-мазанки, крытые камышом; плетни, огороды, гумна… Были в нем, конечно, и каменные дома под железными крышами. Да и заборы с коваными воротами смотрелись ничуть не хуже московских или петербуржских. Однако малороссийская архитектура всё же больше главенствовала в этом степном городке.
В Острогожске насчитывалось чуть больше десяти тысяч жителей, одну половину из них составляли русские, а вторую — малороссы. Город утопал в яблоневых, вишневых и грушевых садах. Много было в нем и церквей. С расстояния десяти верст радовали глаз их золотые купола, глядя на которые местный люд тут же начинал креститься. За городом зеленели сочные луга, а по ним петляли змейками две речки, две сестры — Острогоща и Тихая Сосна, неспешно перекатывая свои волны в широкий и полноводный батюшку—Дон.
Но что примечательно: в сравнении с другими уездными городами, коих тогда было немало, Острогожск жил более насыщенной хозяйственной, духовной и общественной жизнью. Неслучайно в губернии его возвышенно величали «Воронежскими Афинами».
Александр Никитенко, знаменитый в будущем цензор, литератор и друг самого Пушкина, а тогда четырнадцатилетний школяр местного уездного училища записал в дневнике: «Замечательный город был в то время Острогожск. На расстоянии многих верст от столицы, в степной глуши, он проявлял жизненную деятельность, какой тщетно было бы тогда искать в гораздо более обширных и лучше расположенных центрах Российской империи».
Острогожск считался зажиточным городом. Чего только не делали острогожцы! Они производили кирпич, варили мыло, топили сало, выделывали кожи, курили вино… Знаменит был город и своим главным рыбным складом, на который везли рыбу с Дона, а потом отправляли в соседние губернии. В просторечии Острогожск часто называли Рыбным.
Местное купечество ворочало немалыми капиталами. Наибольший доход приносили лавки с красными и панскими товарами (сукно, ситец, шелк, пушнина); лавки с чаем, сахаром, бакалеей и рыбными товарами; лавки с черным товаром (деготь, соль, медь, свечи); скобяные и мясные лавки; лавки с табаком, мукой, мылом, гончарной и хрустальной посудой и юфтевым товаром. Внутренний городской оборот по всем отраслям торговли (лавочной и магазинной) в год достигал 262 тысяч рублей серебром.
Но не хлебом единым жили острогожцы. В библиотеках дворян, купцов и офицеров местного гарнизона в массивных «шкапах» хранились сочинения Вольтера, Дидро, «Персидские письма» и «Дух законов» Монтескье, «О преступлениях и наказаниях Беккариа». В «шкапах» этих были комплекты «Московских ведомостей», «Сына Отечества», «Русского инвалида». В местных гостиных предпочтение отдавали не свежим сплетням, а последним политическим, военным и литературным новостям.
Среди острогожских обитателей выделялись фамилии дворян Томилиных, Веневитиновых, Рахминых, Тевяшовых, Сафоновых, Станкевичей, Астафьевых, купцов Должикова и Панова... Они не только радели о пользе своего сословия, но отличались благородной общественной деятельностью, просвещенными и гуманными идеями.
Уроженец Острогожска, глава знаменитого московского литературно-философского кружка Николай Станкевич 7 января 1836 года сообщал своему другу Михаилу Бакунину: «Не имейте дурного понятия об Острогожске — здесь чувства, и дела, и мнения совсем не те, что в Миргороде. Правда, у нас есть Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи, зато они засмеют в глаза всякого, кто скажет им, что турецкий султан заставляет нас принять свою веру, что доказывает их сведения в современной политике и здравый ум. Они ссорятся, но не тягаются — что доказывает их доброе сердце. Они не лежат под навесом, а пускаются в коммерческие обороты, курят вино и ставят свиней на барду, что доказывает их способность к практической деятельности...».
Огромную роль в жизни города играло духовенство. По словам одного из современников, оно, поистине, стояло на высоте своего призвания. В Острогожске насчитывалось восемь каменных церквей. Например, Троицкая соборная церковь, купола которой были видны во все стороны на десятки верст, выделялась замечательной архитектурой и славилась хорошими образами работ известных художников. Говорили, что сам Боровиковский по молодости расписывал здешние храмы. Правда, не уточняли какой Боровиковский: старший Лука или сын его Владимир, впоследствии известный русский живописец. А в такой же красивой Покровской церкви звонили колокола, подаренные Петром I. Государь посетил город незадолго до Полтавской битвы. Здесь же произошла его встреча с гетманом Украины Мазепой.
Жизнь в Острогожске еще больше оживилась, когда в нем стала квартировать 1-я драгунская дивизия. Драгуны прибыли в город прямо из Европы, где участвовали в разгроме остатков наполеоновской армии. Правда, напоить своих коней в Сене и пройти на рысях в парадных колоннах победителей по парижским улицам им не довелось. Капитуляция французов застала их в немецком Дрездене. Там и отметили они с подобающим русским размахом победу, а оттуда путь дивизии пролег обратно в Россию.
Упомянутый нами Никитенко рассказывал: «Квартировать в Острогожске и его окрестностях была назначена первая драгунская дивизия, состоявшая из четырех полков: Московского со штабом, Рижского, Новороссийского и Кинбурнского, прибывшего несколько позже. С водворением их у нас наш скромный уголок преобразился. В нем закипела новая жизнь, и пробудились новые интересы. Офицеры этих полков, особенно Московского, где в штабе был сосредоточен цвет полкового общества, представляли из себя группу людей, в своем роде замечательных. Участники в мировых событиях, деятели не в сфере бесплодных умствований, а в пределах строгого, реального долга, они приобрели особенную стойкость характера и определенность во взглядах и стремлениях, чем составляли резкий контраст с передовыми людьми нашего захолустья, которые за недостатком живого, отрезвляющего дела витали в мире мечтаний и тратили силы в мелочном, бесплодном протесте. С другой стороны, сближение с западно-европейской цивилизацией, личное знакомство с более счастливым общественным строем, выработанным мыслителями конца прошлого века, наконец, борьба за великие принципы свободы и отечества — всё это наложило на них печать глубокой гуманности — и в этом они уже вполне сходились с представителями нашей местной интеллигенции. Немудрено, если между ними и ею завязалось непрерывное общение».
К цвету здешнего полкового общества принадлежал и будущий декабрист, замечательный русский поэт Кондратий Рылеев. В ту пору он служил прапорщиком в конноартиллерийской батарее. И ему запал в сердце городок на берегу Тихой Сосны:
Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились,
Где дубров тенистых рощи
Над потоком разрослись…
Где в лугах необозримых
При журчании волны
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;
Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов
Городок уединенный
Острогожских казаков.
В этом «замечательном городе» и там, где «волны Острогощи в Сосну Тихую влились», 27 мая 1837 года родился великий русский художник Иван Николаевич Крамской.
В своей автобиографии Крамской позже засвидетельствует: «Я родился в 1837 году, 27 мая (по старому стилю. — Н. К.), в уездном городке Острогожске, Воронежской губ., в пригородной слободе Новой Сотне, от родителей, приписанных к местному мещанству». В тексте другой автобиографии прибавил: «Крещен же 29 мая во имя Иоанна Блаженного, стало быть, через день».
«12-ти лет от роду, — продолжает дальше Крамской, — я лишился своего отца, человека очень сурового, сколько помню. Отец мой служил в городской думе, если не ошибаюсь, журналистом (писарем. — Н. К.); дед же мой, по рассказам, был тоже каким-то писарем в Украине. Дальше генеалогия моя не подымается. Как видите, она столь же древняя, как и любая дворянская».
Действительно, происхождения Ваня был совсем не знатного. Дед его, Федор Крамской, принадлежал к числу так называемых войсковых жителей, то есть не принадлежал помещику, а служил, как уже сказано, волостным писарем в Украине. Оттуда судьба его забросила в Воронежский край, где он и пустил корни.
Отец будущего художника, Николай Федорович, пошел по стопам Крамского-старшего, с молодых лет и до самой смерти служил письмоводителем в Острогожской городской думе. Николай Федорович был человеком крутого нрава, вдобавок любил хорошо выпить. Но при всём этом отец был главным кормильцем семьи: ежемесячно получал десять рублей серебром жалованья, а к ним добавлялись еще 60-70 рублей от записей в гильдию. По тем временам — это были деньги большие.
Мать Крамского, Настасья Ивановна, в девичестве Бреусова, принадлежала к старинному казачьему роду. По характеру это была строгая и трудолюбивая женщина. Из детства Ивану в сердце запала такая картина. Утро. Отец собирается на службу. Он, как всегда, чем-то недоволен, ворчит на мать. А та, проглатывая обидные слова и горькие слезы, молча хлопочет у печки. По словам Крамского, мать была выдана замуж за отца насильно, «она его не любила».
В 1859 году Крамской, будучи учеником Академии художеств, написал портрет матери. В этой, по сути, юношеской работе он постарался передать облик женщины, еще не старой, немного суровой, с пронзительным взглядом. Позже Крамской рассказывал о встрече с матерью: «Господи, какая она старенькая и всё такая же добрая… Ей шестьдесят пять лет. Глаза, лоб и нос еще точь-в-точь как на моем портрете…». И дальше: «уж очень простая, до того проста!..»
В семье Крамских было трое сыновей. Старший сын Михаил, по примеру отца, до конца дней своих оставался в должности письмоводителя. Второй сын, Федор, работал учителем словесности в приготовительных классах Острогожского уездного училища, где и сам получил образование. Иван был младшим из трех братьев. В своей автобиографии он упоминает еще о двух сестрах, рано умерших.
Небольшая хатка-мазанка Крамских, в три окошка, под камышовой крышей, стояла у самого майдана (площади. — Н. К.) на высоком берегу Тихой Сосны. Она сохранилась и по сей день, несмотря на полыхавшие в тутошних местах костры восстаний и кровавые войны. Здесь, в мазанке, в ее тесных выбеленных комнатках, у печки с чугунками и рогачами, столом под образами в парадном углу, чистыми рушниками на лавках; в огороде с подсолнухами, саду, огороженном плетнем, словно оживают страницы жизни будущего художника.
«Первое впечатление, — рассказывает Крамской об эпизодах своего детства, — следующее: я сижу у кого-то на руках и смотрю в черную дымовую плетеную трубу четырехугольной формы, через которую видно небо. Сколько мне было лет, и кто меня держал — не помню; держала, должно быть, мать, а лета… я еще не ходил. Это, значит, мое первое впечатление, которое я помню. Второе, тоже довольно раннее, было следующее: я вместе с матерью и некоторыми родственниками еду откуда-то на санях очень низких (дровнях) и вижу с поразительной ясностью стволы тонких берез, обледенелый снег, замерзшие лужицы, в которых лед отливает перламутром, а от вечернего солнца длинные тени; путь лежал через так называемую леваду. Это впечатление сопровождалось (помню очень хорошо) грустным и тоскливым чувством, хотя и приятным. Затем рядом возникает в памяти летнее утро, теплое, светлое, солнечное, росистое и пахучее, я иду с блинами (помню хорошо, что куда-то кому-то нужно было снести завтрак), иду по саду нашему, по дорожке, и с обеих сторон трава очень свежая и пахучая, выше меня ростом. Очень весело, и я горжусь важностью данного мне поручения. Но куда я пришел, и выполнил ли данное поручение, не знаю — не помню, а как иду — помню, и как бьет мокрая трава в лицо и осыпает всего брызгами — помню тоже».
Вообще детство Вани мало чем отличалось от детства таких же, как он, слободских ребятишек. Зимой одним из главных развлечений Вани и его друзей было катание на салазках и льдинах.
«Эти льдины я умел очень хорошо обделывать, — вспоминал впоследствии Крамской. — Сверху вырубалось сидение, спереди и сзади оставлялись вершка 2 стеночки; в них посредине проделывались дырочки посредством соли: щепотки соли было достаточно, чтобы продуть дырочку; соль насыпалась, и через соломинку надо было на нее дуть: соль уходила в лед и таким образом чистая дырочка была готова; тоже и с другой стороны. Потом бралась веревка и на одном конце привязывалась коротенькая палочка поперек, свободный конец вводился через обе дырочки, палочка удерживала веревку и под веревку на сиденье клалась солома. Таким образом, можно было экипаж этот возить. Как он был быстр и легок на ходу и как удобен, особенно при езде верхом! Но при спуске с горы на нем нужно было иметь большую долю хладнокровия и уметь управлять им. Если кто не умел, льдина начинала кружиться, ездок падал в снег, а экипаж укатывал из-под него сажень на 200! Это было очень веселое время, особенно когда спускавшихся было много; впрочем, и в одиночку тоже ничего».
Но если зимой ребячья жизнь сосредоточивалась на правом конце улицы, у горы над рекой, то летом — на левом. Дело в том, что на левом конце была огромная площадь или, как выше сказано, майдан. Вот на этой площади Ваня играл с ребятишками в мяч, в прятки, в свайку, запускал змей. Игры прекращались лишь тогда, когда в высоком южном небе зажигались звезды, а за речкой медленно поднималось ночное светило — месяц. Однако по пути домой наш герой обязательно задерживался у какой-нибудь хаты, где у плетня на бревнах или на скамейке балакали старые казаки.
— Ну, хлопец, сидай, а мы трохи поговоримо, — звал кто-то из дедов, усаживая рядом с собой Ивана.
Как любил будущий художник слушать их воспоминания о буйной казацкой вольнице, об участии острогожских казаков в боях и походах против крымских татар, турок, шведов! Наслушавшись дедовских рассказов, Ваня на следующий день приступал к своему излюбленному занятию. Напротив хаты был погреб, рядом с ним много глины. Набрав большой комок, Ваня сначала долго ее разминал, пока она не становилась мягкой и теплой, а потом начинал лепить из податливой массы фигурки казаков, лошадей… Причем юный скульптор старался сделать их в движении. И это у него славно получалось: лошади, скачущие наметом, а на них всадники, пригнув головы к самым шеям лошадей, с острыми пиками наперевес. Настоящая казачья атака.
Работа с глиной доставляло маленькому Крамскому большую радость. Но он еще не понимал, что именно с этих глиняных фигурок начинался его путь в прекрасное. В тот огромный и неповторимый мир, который называется искусством.
Еще одним увлечением нашего героя была музыка. Со стороны двора Крамских стоял дом, в котором жили соседи, братья Крупченко. Оттуда часто было слышно хоровое пение, доносились звуки скрипки, флейты, особенно флейты. Это играл на инструменте один из братьев.
«Как это было хорошо! — вспоминал впоследствии Крамской. — Никогда лучшего артиста я потом не слыхал, и никогда такого восторга, спирающего дыхание, в моей жизни в такой мере не повторялось. На утро я, бывало, забираюсь в свой сад, где была одна большая, густая и старая вишня, с раздвоившимся стволом, взбираюсь поближе к верхушке, усаживаюсь, и на гребенке, переложенной по зубцам бумагою, начинаю играть: звуки выходили очень похожие на флейту, по-моему. Случалось, что я довольно долго доставлял себе это удовольствие, но оно всегда кончалось тем, что мать моя сыщет меня, стащит оттуда и иногда чувствительным образом накажет за порчу дерева, а музыкальный инструмент спрячет так, что долго не найдешь».
Уже тогда у этого маленького, худенького мальчика с умными, серыми глазами зародилась в душе любовь к музыке, которую он сохранил и в зрелом возрасте.
В это же время, как писала в 1891 году одна из первых биографов Крамского Анна Ивановна Цомакион, у мальчика «обнаружились и зачатки любви к пейзажу. В те ранние детские годы, поражали ребенка переливы света на деревьях, игра солнечных лучей на поверхности замерзших лужиц, длинные тени, ложившиеся на дорогу от тонких стволов берез, легкая рябь, пробегавшая по поверхности его любимой речки от внезапно подувшего ветерка».
В биографии Крамского, напечатанной в 1880 году петербургским еженедельным иллюстрированным журналом «Живописное обозрение», приводятся несколько подробностей из молодых лет жизни Крамского.
«Мальчик очень рано полюбил природу, — пишет автор, — именно с ее, так сказать, художественной стороны; речки, левады, рощи, переливы света, — всё это охватывало ребенка каким-то непонятным ему восторгом. Пробуждался, если можно так выразиться, поэтический лиризм… Немало также интересовала его живопись кладбищенской церкви в Острогожске, еще екатерининского времени. Картины эти принадлежали какому-то, ныне совершенно забытому художнику Величковскому. Эти художественные произведения прошлого века — не Бог весть что, но и не суздальщина».
Однако сам Крамской в своей автобиографии не указывает, когда именно возникло у него желание заняться рисованием. «Помню только, — вспоминал Крамской, — что 7-ми лет я лепил из глины казаков, а потом — по выходе из училища, рисовал всё, что мне попадалось».
Также в семилетнем возрасте будущий художник начал учиться грамоте. Первые уроки по методе аз, буки, веди ему преподал один из братьев-музыкантов Крупченко. Он же научил маленького Ваню читать псалтырь и часослов.
Кроме того, ему мальчик обязан и за арифметическую науку. Позже Крамской вспоминал, что из цифр ему больше всего нравилось писать четверку. За эту цифру он даже получил увесистого леща от родителя. Дело было так. Перед новогодними праздниками мать побелила печку. «Чем не полотно?» — рассудил будущий живописец и старательно вывел угольком на белоснежной печной стене год 1844, за что и был наказан отцом.
Когда Ване исполнилось десять лет, родители отдали его в Острогожское уездное училище. Учебное заведение имело нижнее (подготовительное) отделение, первый, второй и третий классы. По количеству учеников оно среди других уездных училищ было средним: в нем обучалось тогда около ста человек. Училище располагало собственной библиотекой, в которой насчитывалось порядка тысячи книг, строго учтенных и записанных в «особую шнурозапечатанную книгу». Имелась в училище и книжная лавка, где можно было купить книги, учебники.
Курс наук насчитывал чуть больше десяти дисциплин и основывался в первую очередь на чтении Священного Писания и на различных правилах — слога, чистописания, правописания. Кроме того, в училище преподавались география, краткая всеобщая история, грамматика, арифметика, латинский и немецкий языки, рисование и черчение.
Учеба Ване давалась легко. Закон Божий, математику, грамматику, иностранные языки, другие предметы он осваивал быстрее и лучше своих сверстников.
Что касается рисования, то большого интереса, как ни странно, наш герой к этому предмету почему-то не проявлял, хотя и имел по нему отличные оценки. Первый оригинал, который ему дал учитель рисовать в первом классе, был профиль лица без затылка с чубом на лбу. Рисунок был напечатан на бумаге в клетку штрихами. Весь год Крамской рисовал этот рисунок, но так и не закончил.
Во втором классе уроки рисования ему показались еще более скучными. Из-за этого он никак не мог перерисовать с литографии икону Святого Семейства, на которой были изображены Дева Мария, ее муж Иосиф Обручник и младенец Иисус. Тушевка была мелкая и очень точная. Учитель рисования, добрый старичок, обозвал Крамского «лентяем, зарывающим свой талант в землю». Что значило «зарывать талант», Ваня тогда так и не понял. Зато учитель, произнося эту фразу, похоже, заметил в своем ученике талант.
Между тем во время учебы Крамской по праву занял в училище место первого ученика. В доме-музее его имени хранится список учеников второго класса Острогожского училища, которые после экзаменационных испытаний переводились в третий класс. Напротив фамилии Крамского стоят отличные оценки по всем предметам. Высший балл ему выставлен и за поведение. В последней графе этого списка рукой одного из его наставников сделано заключение: «Переводится в 3-й класс с наградой».
Первым учеником Иван и закончил уездное училище, о чем свидетельствовал выданный ему аттестат с отличием. Спустя годы, став зрелым человеком, Крамской так рассказал об этом периоде своей жизни: «Помню живо то страшное время, когда выходишь на экзамен — кровь в виски стучит, руки дрожат, язык не слушается, и то, что хорошо знаешь, — точно не знаешь, а тут очки, строгие лица учителей... Помню, как, бывало, у меня кулачонки сжимались от самолюбия и я твердо решался выдержать и не осрамиться».
Как писала Цомакион, из этого маленького школьника со сжимавшимися под влиянием внутреннего решения кулачками уже складывался человек, всю жизнь свою твердивший себе и другим: «Вперед, без оглядки, — были люди, которым было еще труднее!»
Иван еще ходил в училище, когда их семью постигло горе: умер отец. Потеря близкого человека отразилась, прежде всего, на семейном бюджете. Для того чтобы учиться дальше в гимназии, которая находилась в Воронеже, требовались деньги. А их в семье не было. Да к тому же Ваня, как считала мать, был еще очень мал. На фоне сверстников он выглядел щупленьким и меньше их возрастом. Тогда и было принято решение оставить Ваню в училище еще на один год. Скорее всего, оно принималось не без участия старшего брата Федора, который, как известно, работал учителем в училище. Он же помог оставить младшего брата в училище старшим учеником — в то время подобные вещи допускались.
Так Иван остался в училище еще на год. Как старший ученик, он помогал учителю поддерживать порядок в классе, иногда и сам проводил уроки. Через год ему выдали тот же аттестат, только переписали дату.
Однако определенности, чем же он должен дальше заниматься, по-прежнему не было. На учебу в гимназию не было средств, а его занятие рисованием в семье всерьез никто не воспринимал. На очередном семейном совете было принято решение определить Ивана на службу в качестве писца в Острогожскую городскую думу.
Надо сказать, писарь из него получился первостатейный. Мальчик старательно переписывал протоколы, ведомости, списки и другие казенные бумаги. Каллиграфия у нашего героя также была отменная. Начальник канцелярии, Аким Петрович, был доволен новым писарем, даже поручал ему делать рисунки модных воротничков для своих дочерей. Ваня и с этим заданием успешно справлялся.
А в свободное от канцелярской службы время он продолжал с увлечением заниматься рисованием. Иван уже сам чувствовал, что послушнее, чем раньше, становится карандаш, что наиболее хорошо ему удаются пейзажи, портреты людей.
К этому периоду относится его знакомство с Михаилом Борисовичем Тулиновым, местным любителем живописи и фотографом-самоучкой. Старший брат Ивана Федор как-то встретил на улице Тулинова и попросил заглянуть к ним в гости, а заодно посмотреть, как рисует его брат.
Тулинов был удивительно добрым, отзывчивым, дружелюбным человеком и никогда не отказывал ни в совете, ни в помощи. Он откликнулся на просьбу и встретился с будущим художником. Вот как Тулинов сам описывает их первую встречу: «Вхожу. Вижу маленького, худенького, серьезного мальчика, и с ним два других мальчика. Это были: Ваня Крамской и его товарищи, Гриша Турбин (впоследствии ретушер у одного фотографа в Харькове) и Петя Бравый (впоследствии живописец в Острогожске). Ваня до того был застенчив, что если бы не товарищи его, то он и в этот раз вряд ли показал бы мне свои рисунки. Но вот, мало-помалу, мы разговорились, пересмотрели его рисунки…»
Примечательно, Тулинов был первым из посторонних взрослых людей, кто посмотрел рисунки Ивана. Они ему понравились. Прощаясь, Тулинов спросил, почему Ваня только карандашом рисует.
— А у меня, кроме туши и французского карандаша, нет ничего. Ни красок, ни кисточек нет, — с грустью ответил Иван.
— Этому горю можно пособить, — сказал Тулинов. — Завтра жду тебя у себя дома. У меня есть хорошие краски Аккермана, а также кисти. С удовольствием с тобой поделюсь.
На следующий день будущий художник получил от Тулинова в подарок заветные кисти и краски. В дальнейшем Тулинов, несмотря на четырнадцатилетнюю разницу в возрасте, стал для Крамского добрым наставником, которому тот поверял свои мысли, делился идеями, брал из его библиотеки книги. «Мы сошлись, как ровесники, — вспоминал впоследствии Тулинов, — почему? Я страстно любил живопись и рисовал самоучкой акварелью, а он получил в городском училище страсть к рисованию, работал дома карандашом и тушью».
Встреча с Тулиновым еще больше укрепила в мальчике стремление быть художником, и он всё чаще стал просить мать и братьев отдать его в ученики к какому-нибудь живописцу. «Милая живопись! — записал юноша в дневнике. — Я умру, если не постигну тебя, хоть столько, сколько доступно моим способностям».
— Що ж ты довбаешь и довбаешь мэне, як дятел дуб, — сердилась мать. — Чи иншого заняття немае. Хиба тоби погано буты писарем?! Заладил — художник, художник... А ты знаешь, що вси художники — пьяницы и жебраки (нищие. — Н. К.)! Хочешь буты таким босяком як Агеевич!
Петр Агеевич был местный живописец. Ваня часто видел его на базаре. Вид у Агееевича действительно был затрапезный. Ходил он в изношенных сапогах с отрезанными по щиколотку голенищами и в старом засаленном халате. От него всегда пахло какой-то кислой закуской и перегаром. Но рисовальщиком Агеевич был от Бога. Все признавали его талант. Однако всё, что зарабатывал кистью, художник тратил на выпивку. Разумеется, Настасья Ивановна не желала своему сыну такой доли.
Но Ваню не так просто было убедить. Он ершился, не соглашался с тем, что ему говорили близкие.
— А вот в Петербурге есть живописец Карл Брюллов. Он имеет большое состояние и живет во дворце, — заявлял в ответ Ваня.
Причем, заявлял твердо и с гордостью, словно тот ему приходился родным братом или дядей. К тому времени Ваня успел начитаться литературы о Брюллове, слава которого уже гремела по всей России. Но мальчика и слушать не хотели. Для семьи Крамского имя Брюллова было не более чем пустым звуком.
— Вин тоби сам розповидав? Брэше, пиды, — возражала мать. — Ти мэни його покажи, я його видучу хлопчикам голови заговорюваты!
В Острогожске, кроме Петра Агеевича, конечно, были и другие художники. Не пьяницы. Но в учениках они не нуждались. Мать Крамского, хотя и была женщиной неграмотной, понимала, что у сына есть дар, какого нет у других его сверстников. О мальчике Ване, умеющем «гарно малювать», хорошо знали и в слободе.
— Хлопчику трэба учиться, — говорили матери люди.
И при этом добавляли:
— Нехай вин и для мэне малюнок зробит…
Вскоре мать прослышала, что в Воронеже есть иконописец по фамилии Бобров, которому срочно требуется подмастерье. На семейном совете было решено отдать Ивана именно к этому богомазу. Для четырнадцатилетнего Крамского открывалась новая страница жизни.




